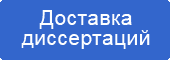Быстрый переход к готовым работам
|
Образ женщины в японской культуре
В эпоху правления династии Хэйан
чувственное сублимируется в культуре в особый эстетизм, подчиняется закону
(нравы) и форме (этикет). Образы любви рождены в японской классической
литературе не любовным культом женщины (так было в Западной Европе), а
эротизмом - этой константой японского мировосприятия. Аристократическая среда,
создавшая хэйанскую литературу, называла культ любви словом "ирогономи"
(букв.: "любовь к любви"), что означало культ чувственных наслаждений
и постоянное их искание как стиль жизни. Но ни о каком избранничестве в любви или
верном служении мужчине женщине, естественно, речи не идет. Ранняя японская
классика оставила нам образ принца Блистательного Гэндзи (Хикару Гэндзи),
окруженного множеством женщин, каждая из которых была обладательницей какой-то
одной неповторимой и чарующей черты. Мы не встречаем в хэйанской
повествовательной литературе образов Тристана и Изольды, Данте и Беатриче. Она
не знала культа прекрасной дамы, но знала культ прекрасных любовных мгновений.
Эпоха Хэйан оставила потомству таинственную заповедь поклонения печальным
"чарам вещей" (моно-но аварэ), в которой сгустились в некую плотность
из древности идущая магия и порожденные временем гедонизм и эстетизм. Человек
подвержен судьбе, карме и носится по свету по длинной жизни, и из жизни в
жизнь, как осенний листок. Мгновение мимолетно, успей им достойно насладиться,
чтобы долгие воспоминания о них отбрасывали некий особенный грустный
очаровательный свет на всю оставшуюся жизнь. Мотив покорности судьбе и
утонченность душевной скорби, страдания характерны для женской любви в средние
века и в Японии, и в Китае: "Мне нравится, если дом, где женщина живет в
одиночестве, имеет ветхий, заброшенный вид. Пусть обвалится ограда. Пусть
водяные травы заглушат пруд, сад зарастет полынью... Сколько в этом печали и
сколько красоты! Мне претит дом, где одинокая женщина с видом опытной хозяйки
хлопочет о том, чтобы все починить и поправить, где ограда крепка и ворота на
запоре!"- пишет Сэй Сенангон, японская придворная дама Х-Х1 века, автор
«Гэндзи». Комплекс хэйанских идеалов стал неразрушимым фундаментом национальной
культуры. В хэйанской литературе определился и вполне прочно, на века, женский
идеал и место японской женщины в ее союзе с мужчиной. Женщина должна быть хрупка,
миниатюрна, нежна и мягка, сдержанна, преданна. Она должна обладать
художественным вкусом, тонкостью чувств, умением создать собственный облик,
проникнутый подлинный очарованием. Внешняя привлекательность и происхождение
чрезвычайно ценились: они считались результатом счастливой кармы,
благодетельных прежних рождений. Огромное место отводилось костюму и искусству
носить одежду. Неэтичным и неэстетичным считались в женщине непреклонность,
недовольство, чрезмерная ученость, непокорность, мстительность и особенно -
ревность. Дух ревнивой женщины приносил зло. Идеальная хэйанская аристократка
была в меру образованна, научена слагать стихи, обладала прекрасным почерком и
умела вести переписку, играла на музыкальных инструментах (как правило, на
кото), танцевала, владела искусством составления ароматов. Такая женщина
обладала в значительной степени и социальной и моральной независимостью. И при
всем том ее положение в сфере любовных отношений, в семье, да и во всем
остальном не было равным с мужчинами уже в эпоху Хэйан. Мужчина по самой своей
природе более свободен от пола; женщина в значительно большей мере зависит от
этой стороны жизни. Это усугублялось в Японии тем, что там очень долго
сохранялась такая форма брака как "цумадои" (посещение жены), при
котором муж жил отдельно от жены и лишь время от времени навещал ее. Полигамия
была нравственной нормой, и отсутствие многих жен у мужчин было признаком бедности
и простого происхождения. Женщина могла принимать у себя и других мужчин в
отсутствие мужа, но официально многомужество расценивалось как измена. Такой
брак был скорее похож на свободную любовь, нежели на брачные узы. Не случайно в
хэйанской литературе нет культа материнства. Женщина здесь чаще всего
становится объектом мужского сладострастия, объектом созерцания в ней всего
особенно женского, но как женственного без материнства. Женщина в союзе с
мужчиной занимала внутренне всецело подчиненное положение. Не случайно также
автор романа о принце Гэндзи придворная дама Мурасаки Сикибу слагает такие
афоризмы: "женщина - в руках мужчины", "женщины рождаются на
свет лишь для того, чтобы их обманывали мужчины". Изредка встречающуюся склонность
сохранять верность одной-единственной женщине общество воспринимает как
странность и чудачество, но никак не норму. В эпоху Хэйан сложились и
передались в последующие времена правила любовных отношений, своеобразный язык
любви в жестах и словах, закрепленный в этикетный канон. В этой связи в мужчине
высоко ценилась опытность в делах любви; он должен был владеть искусством
любовного свидания, знать, как элегантно начать и завершить посещение любимой.
Все это как дух и тон любовных отношений передалось в поколениях, и японская
литература и театр создали трогательные, беззащитные, кроткие и хрупкие образы
женщин, у которых женственность разлита по всему существу, у которых нет
мужских свойств, нет и андрогинности (что, между прочим, так любили воспевать
некоторые европейские философы и поэты). Демоническая разрушительная природа
женской ревности также вся целиком принадлежит женской стихии; она
противоположна своей иррациональностью и необузданностью долгу мести или
ревности у мужчин. Мужчина является перед нами со страниц японской классики как
воплощение чистой мужественности. Его элегантность, изящество, знание толка в
одежде, ароматах, цветах - все это присуще ему на мужской лад. Он также не
андрогин и к андрогинности не стремится. Мужчина и женщина как носители
беспримесных начал не вступают поэтому в изнурительную "борьбу полов"
(это возникает только в новейшее время), но мы видим постоянное склонение
женщины к мужчине, ее счастливую или страдательную отраженность в нем (он -
солнце, она - луна), молчаливое и нередко преданное служение ему. В первую очередь в создании нужного
эмоционального климата его бытия. Японская средневековая женщина признает свою
подчиненную природу как мировой порядок и считает своим долгом - и по инстинкту
и по воспитанию - следовать этому природному порядку (он выражен в древней
китайской мудрости в виде гармонически-подвижного сцепления двоицы инь-ян). Поэтому высшая кармическая
задача женщины - развить и осуществить в себе данную ей самой природой
женственность. А высшей кармической целью мужчины является осуществление своего
мужского пути. Встреча мужчины и женщины мыслилась в философском плане как
предначертанное самой природой со-бытие мужского и женского космических начал и
достижение благодаря этому полноты бытия. Поэтому ревность - как разрушающая
союз мужчины и женщины стихия - глубоко осуждалась. Игра в любовь велась
грациозно, по всем правилам этикета и религиозно окрашивалась смиряющим
верованием в быстротечность земного бытия. Здесь не решают «все раз и
навсегда», тем более не идет речь об «окончательном обладании». Это, опять же,
восходит к доктрине перерождений и накладывает свой отпечаток буквально на все.
"Климат любви" в
средневековой Японии: это "касание" полов; хоть и страстное, но без
стремления к полному слиянию в "плоть едину". Любовь здесь не порыв к растворению в любимом
существе, но влечение, тяготение и томление, разрешаемые встречей и интимной
близостью. Любовь мужчины и женщины как опыт жизни - это, как правило, череда
встреч (особенно для мужчины); в них нет драматической и по сути неосуществимой
жажды полного слияния, полного обладания. Существует область жизненных тайн. Ей
всецело принадлежит любовь как особое чувство, вложенное в сердце человека.
Японская классическая литература создала изумительные образы любви, открывающие
страстные начала в японской национальной стихии. Образы любви рождены в
классической литературе не любовным культом женщины (так было в Западной
Европе), но эротизмом - этой константой японского мировосприятия. Эрос как
влекущее начало вещей и влекомость к нему известны японцам с мифологических
времен. Уже в эпоху Хэйан (IX - XI века) чувственное сублимируется в культуре в
особый эстетизм, подчиняется закону (нравы) и форме (этикет). Любовь мужчины и
женщины становится основной темой литературы эпохи Хэйан, проповедовавшей культ
любви, ее самоценность. Аристократическая среда, создавшая хэйанскую
литературу, называла культ любви словом "ирогономи" (букв.:
"любовь к любви"), что означало культ чувственных наслаждений и
постоянное их искание как стиль жизни. Женщина могла принимать у себя и
других мужчин в отсутствие мужа, но официально многомужество расценивалось как
измена. Такой брак был скорее похож на свободную любовь, нежели на брачные узы.
Не случайно в хэйанской литературе нет культа материнства. Женщина здесь чаще
всего становится объектом мужского сладострастия, объектом созерцания в ней
всего особенно женского, но как женственного без материнства. Женщина в союзе с
мужчиной занимала внутренне всецело подчиненное положение. Не случайно также
автор романа о принце Гэндзи придворная дама Мурасаки Сикибу слагает такие
афоризмы: "женщина - в руках мужчины", "женщины рождаются на
свет лишь для того, чтобы их обманывали мужчины". Правда, в этом романе мы
встречаем женские образы, которым не чужды решительность, хладнокровие,
гордость, способность защитить себя от мужского своеволия. Встречаются тут и
мужчины, склонные сохранять верность одной-единственной женщине. Но общество
воспринимает такие проявления как странность и чудачество, но никак не норму. Японская средневековая женщина
признает свою подчиненную природу как мировой порядок и считает своим долгом -
и по инстинкту и по воспитанию - следовать этому природному порядку (он выражен
в древней китайской мудрости в виде гармонически-подвижного сцепления двоицы
инь-ян). Если от повествовательной
литературы раннего средневековья обратиться к народившейся в XIV в. японской
драматургии для театра Но и затем - к драматургии XVIII в., представленной
драмами для Кабуки и Бункаку, то легко заметить, что классическая драматургия
развивалась главным образом на хэйанском материале (конечно, мы имеем в виду
здесь только тему любви). Она углубляется в хэйанский материал, решая хэйанские
темы в новом, сначала аскетическом буддийском ключе, а затем - погружает их в
конфуцианский мир. Благодаря драматургии (особенно в ее сценическом воплощении)
мы с особой силой и ясностью ощущаем "климат любви" в средневековой
Японии: это "касание" полов; хоть и страстное, но без стремления к
полному слиянию в "плоть едину". Любовь здесь не порыв к растворению
в любимом существе, но влечение, тяготение и томление, разрешаемые встречей и
интимной близостью. Любовь мужчины и женщины как опыт жизни - это, как правило,
череда встреч (особенно для мужчины); в них нет драматической и часто
неосуществимой жажды полного слияния, полного обладания. Историк японской
культуры Сабуро Иэнага утверждает, что в средневековой Японии "между
любовью и браком не было четкого различия, была немыслима любовь без физической
близости". Японская литература не дает нам вплоть до XX в. образа
платонической любви. Образцом же прочного супружества является, как правило,
лишь престарелая чета, но никак не окруженная многочисленными потомками.
Прекрасна сама по себе такая пара, прожившая вместе до глубокой старости. Одной
из наиболее распространенных поэтических метафор подобного супружества служат
сосны-близнецы, растущие из одного корня. Такие сосны называются по-японски
"аиои", что означает "рожденные и стареющие вместе". Стволы
этих сосен одинаково устремлены ввысь, они одинакового обхвата, они стоят тесно
друг к другу, без зазора, но кроны их все же не сплетаются, и один ствол не
обнимает другой. Все это по-настоящему интересно,
ибо отражает глубины японского миросозерцания, все это может быть развернуто в обширные
рассуждения, но наша задача иная, и мы сделали столь пространное
"предисловие" лишь для того, чтобы лучше оттенить главный предмет
статьи, к которому мы теперь переходим. В начале XVIII в. в японской
драме появляется тема, никогда ранее не звучавшая в литературе. Эта тема была
взята великим драматургом Мондзаэмоном Тикамацу (1653-1725) из самой жизни и
претворена в драматических произведениях для театра больших кукол Бунраку.
Тикамацу показывает нам новую любовь, возникающую в мещанской, а не аристократической
среде, любовь, кончающуюся не охлаждением и прекращением встреч (как описано в
хэйанской литературе), а самоубийством влюбленных в самый разгар их чувств. Самоубийство является для влюбленных
жертвоприношением на алтарь вечности. Влюбленная пара умирает, ибо силою
обстоятельств не может соединиться брачными узами в этом мире. Тогда она
переносит свою любовь в иной мир в экстатической надежде возродиться в новых
рождениях мужем и женою. Из подобного самоубийства не следует делать
европоцентристский вывод в духе романтизма, будто истинной любви нет места в
этом мире. Нельзя уподоблять его также гибели Ромео и Джульетты. Нельзя
понимать такое самоубийство и в духе современной западной психологии как
"бегство от действительности". Причины, мотивы, атмосфера,
обстоятельства, цели, средства и сама идея самоубийства тут совершенно
особенные. Это азиатская "диковинка", это типично восточное явление,
нуждающееся в детальном толковании. В 1703 г. написанием драмы
"Смерть во имя любви в Сонэдзаки" (Сонэдзаки синдзю) Тикамацу
открывает серию драм, посвященных этой теме. Тикамацу обращается к теме
самоубийства из-за любви через 20 лет после первого такого случая,
произошедшего в Осака и внесенного в городские хроники. К 1703 г. был составлен
целый свод самоубийств влюбленных с указанием имен, возраста и других
подробностей, так что можно говорить, что когда Тикамацу взялся за тему,
самоубийство влюбленных перестало быть "случаем", а стало
распространенным обычаем. До Тикамацу этой темы касались в театре другие
драматурги (например, Кайон), а также новеллист Ихара Сайкаку (1642-1693),
целый ряд эротических повестей которого кончаются самоубийством влюбленных.
Считается, что именно Сайкаку ввел в литературный обиход новое слово для
обозначения добровольной смерти любовников - слово "синдзю", которым
и воспользовался вслед за ним Тикамацу. "Синдзю" первоначально имело
значение "верность в любви" и являлось жаргонным словечком публичных
домов. Тикамацу дал этому слову возвышенный смысл: "верность даже в
смерти". "Синдзю" стало означать то же, что и старое поэтическое
слово "дзёси" ("смерть во имя любви"). Обычай
"синдзю" потрясал общество на протяжении полувека (с 80-х гг. XVII в.
до 30-х гг. XVIII в.). Он был настолько распространен, что правительство повело
с ним активную борьбу. Тем не менее искоренить полностью этот "феодальный
обычай" не удалось, и даже в современной Японии он время от времени дает о
себе знать во всех слоях общества. Так, знаменитый писатель XX в. Дадзай Осаму
утопился с возлюбленной, а первая большая актриса театра современной драмы
Сумако Мацуи покончила с собой после смерти любимого человека. И хотя и в адрес
Тикамацу и театров раздавались обвинения в пропаганде кровавого обычая, его
укоренение не было обусловлено популярностью театральных представлений на эту
тему. Нельзя сказать, что в своих драмах о смертниках-влюбленных Тикамацу
проповедовал самоубийство. Сказать так все равно, что объявить трагедию
Шекспира "Ромео и Джульетта" повреждающим нравы произведением. Как
уже упомянуто, Тикамацу обратился к теме "синдзю", когда подобные
реальные происшествия стали, как тогда говорили, поветрием, и Тикамацу как
большой художник не мог пройти мимо столь актуального явления. Он просто писал
о том, что волновало всех; он взялся поставить общество лицом к лицу перед
фактами и дать им философское, житейское и поэтико- драматическое освещение; он
призывал глубоко задуматься над загадками бытия. Обычай "синдзю" возник
не на пустом месте. Намного раньше в самурайской среде сформировался обычай
харакири, а задолго до "синдзю" японские женщины расставались с
жизнью на могилах мужей и возлюбленных. Обычай самоубийства влюбленных не мог
бы укорениться в обществе, которое не видело бы в нем чего-то чрезвычайно много
говорящего сердцу. Если бы этот обычай не отвечал каким-то внутренним зовам, не
затрагивал самых тайников народной души, как мог бы он распространиться?
Приходится признать, что японцы видят в самоубийстве как таковом что-то, чего
не видим мы, возросшие на почве христианских культур. В европейском человечестве
происходили и происходят самоубийства и по сей день, а языческий мир восхвалял
самоубийство как своего рода героизм. С переменой мировоззрения меняются и
нравы. В христианском обществе самоубийство стало считаться тяжким грехом и
великим несчастьем. Согласно христианским представлениям, греховность и даже
преступность самоубийства заключается в том, что человек произвольно прекращает
свою жизнь, которая принадлежит не ему только, но и Богу и ближним, которая
дарована Богом для нравственного совершенствования, а не для злоупотребления.
Тяжесть этого греха заключается также в том, что человек является в загробный
мир непризванным. С христианской точки зрения самоубийца не герой, а трус, так
как не имеет мужества и смирения снести несчастья, из-за которых обыкновенно
решаются на самоубийство (потеря любимого человека, потеря имущества,
неизлечимая болезнь, заслуженный или незаслуженный стыд и т.п.). По-христиански
считается, что самоубийца обнаруживает сильную приверженность к земному
счастью, коль скоро в несчастье отказывается жить. Но избегая временных
бедствий, он подвергает себя бедствию вечному. Самоубийц не отпевает церковь,
их хоронят вне пределов христианских кладбищ. Поэтому в среде верующих христиан
самоубийство и теперь вызывает страх за загубленную душу. В современном
западном мире психологи, может быть, не отдавая себе в том отчета, трактуют
самоубийство в русле христианской традиции, но в своих терминах: как временное
помешательство или как "бегство от действительности". Многие современные японцы (если
они не христиане) считают самоубийство достойным способом ухода из жизни, а в
самоубийстве влюбленных им видится величие и красота. Но ни буддизм, ни
конфуцианство не одобряют убийство, и потому и здесь корни этого обычая следует
искать в значительно более далекой древности, в первобытном, вернее даже
перво-бытийственном строе японской души. Следует признать, что это народ,
который на протяжении веков не видел греха в самоубийстве, который сделал из
самоубийства своеобразный культ и разработал его ритуал, который слагал гимны
самураям-самоубийцам и смертникам- влюбленным. Более того. Это народ, который
видит в самоубийстве способ очищения, способ исправления человеческой судьбы. |
|