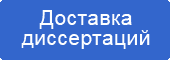Быстрый переход к готовым работам
|
ВОПРОС ЖАНРА «ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» И РАССКАЗА «КРОТКАЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«Совершенно
новый мир, до сих пор неведомый, - так охарактеризовал Ф.М. Достоевский мир,
который он нарисовал в «Записках из Мертвого дома» (1860-1862). Этим неведомым
тогдашнему русскому обществу миром была русская каторга, на которой Достоевский
провел четыре года (1850-1854), осужденный правительством Николая I как участник революционного общества
петрашевцев».[1] «Пытаться
постигнуть гений Достоевского, его творчество и мировоззрение без рассказа о
Мертвом доме невозможно»,[2]- таково мнение многих
исследователей литературного наследия Федора Михайловича. Характерно,
что год выхода знаменательной книги русского писателя совпал по времени с
отменой крепостного права, «словно стоило объявить одно рабство отмененным, как
приоткрылась завеса над вторым». – Считает Андрей Битов в своей статье «Новый
Робинзон»,[3] посвященной 125-летию
выхода в свет «Записок из Мертвого дома». В те
годы, когда писался «Мертвый дом» Достоевского, в годы подъема демократического
движения в России, наиболее остро стояли вопросы о крестьянстве и о
преобразовании суда, царской тюрьмы и каторги. В передовых кругах общества эти
вопросы вызывали неизменный интерес и участие. Поэтому в аспекте данной
политической обстановки в стране «Записки из Мертвого дома» произвели эффект
разорвавшейся бомбы. Книга Достоевского, как никакая другая отвечала широкому
общественному умонастроению. Она была невыдуманным отражением социального
института – каторги – существовавшего в реальном времени и пространстве, и,
однако, А.И. Герцен в «Былом и думах» сравнил «Записки» по силе производимого
впечатления с «Адом» Данте и фресками «Страшного суда» Микеланджело. И это при
том, что Достоевский, в отличие от Микеланджело и Данте (да и от Гюго – тоже!),
описал то, что видел и пережил сам. «Это была книга о наболевшем, в которой
автор…оказывался лицом, переболевшим больше всех», - говорит Т.С. Карлова,[4] исследуя образ «Мертвого
дома». Полностью
книгу Федора Михайловича публикует в своем новом ежемесячном журнале «Время»
его брат, Михаил Достоевский. «В апреле 1861 г. «Время» начало публикацию
«Записок из Мертвого дома». Но еще до этого введение и первые главы «Записок»
появились в газете «Русский мир», издававшейся Ф.Т. Стелловским».[5] Это говорит о том, что
книга пользовалась спросом уже во время написания. Книга,
новаторская по содержанию, необычная по сути, была непохожей и по форме.
Недаром вопрос о жанровой принадлежности «Записок из Мертвого дома»
окончательно не решен и сейчас, спустя почти сто пятьдесят лет после выхода в
свет. Андрей Битов считает: «Достоевский писал первую в России книгу о каторге
и мог ощущать себя Вергилием, проводящим читающую публику по кругам Дантова
ада. Он был и для себя-то первым очевидцем и первым летописцем –
первооткрывателем как материала, так и формы».[6] Но
написать просто автобиографические воспоминания, поставив одного лишь себя в центр
повествования, и не задаться глубочайшими антропоцентрическими вопросами, - это
не для Достоевского. Слишком мелко, слишком поверхностно это для Федора
Михайловича! И не вызывали бы тогда «Записки из Мертвого дома» столько
вопросов, не породили бы к жизни столько противоречивых исследований и мнений. Во
многом автобиографические, построенные на реальных материалах, «Записки» несут
на себе печать типизации героя и его переживаний; возможно, с целью подчеркнуть
глубину поднимаемой проблематики. Об этом говорит и В.Н. Захаров в своей
монографии «Система жанров Достоевского»: «В «Записках из Мертвого дома» много
личного, но как автор «Записок» Достоевский стремился к обратному
художественному эффекту, предпочитая
рассказу о своем пребывании в остроге изображение каторги (курсив мой –
Мусаева О.). Не раз автор отказывается от передачи личных тягостных
впечатлений, лишь обозначая их, например: «Но мне больно вспоминать теперь о
тогдашнем состоянии души моей. Конечно, все это только одного меня касается… Но
я оттого и записал это, что, мне кажется, всякий это поймет, потому что со всяким то же самое должно случиться, если
он попадет в тюрьму на срок в цвете лет и сил (курсив мой – Мусаева О.)»
(4, 220). Достоевский типизировал свою острожную судьбу».1[7] И все же полагаю, что
здесь еще раз следует уточнить: Достоевский создал именно художественное произведение о каторге. Писатель сам не раз
подчеркивал, что «художественность есть главное дело, ибо помогает выражению
мысли выпуклостию картины и образа, тогда как без художественности, проводя
лишь мысль, производим лишь
скуку,.. а иногда и недоверчивость к мыслям, неправильно выраженным» (24, 77). Итак,
«Записки из Мертвого дома» – произведение, созданное на основе синкретизма
реальных фактов из биографии писателя и его художественного, творческого метода
передачи действительности. «Это прежде всего художественное произведение, в
котором писатель не только воспроизводил реальные события и образы конкретных
людей, - пишет Н.И. Якушин, - но и, опираясь на действительные факты, используя
свои наблюдения над определенными лицами, создавал обобщенные характеры,
домысливал и развивал отдельные эпизоды и ситуации. В тоже время Достоевский
стремился к тому, чтобы читатель воспринимал его книгу как достоверное
свидетельство о действительных, а не вымышленных событиях и людях».1[8] Доказательством слов
Якушина служит и тот факт, что в процессе работы над «Записками» Федор
Михайлович пользовался «Сибирской тетрадью». Так названы потаенные записи,
которые писатель вел в годы заключения. Их немногим менее пяти сотен. На основе
«Сибирской тетради» создано множество сцен, выведенных в «Записках из Мертвого
дома». Таким
образом, пояснив, что книга Достоевского компилирует реальное и типизированное,
мы можем обратиться к непростому вопросу о жанре «Записок». Среди основных
проблемных вопросов, возникающих у исследователей в данной сфере, можно назвать
следующие: степень автобиографичности «Записок», их документальность,
идентичность/ разделение автора и рассказчика, относительную самостоятельность
компонентов формы, временные рамки и пр.
Прежде, чем приступать к рассмотрению различных точек зрения
исследователей творчества Достоевского на проблему определения жанра, хотелось
бы опровергнуть достаточно расхожее мнение о структурной хаотичности «Записок
из Мертвого дома». То,
что на первый взгляд может показаться хаосом, лишь след отображения жизни
такой, какая она есть. В этом и состоит неповторимость произведения. Приведу
цитату из «Размышлений о системном анализе литературы» М.Б. Храпченко,
подтверждающую эту точку зрения: «Непрерывность течения жизни вступает в
противоборство с совершенной законченностью самого произведения. Тяготение к
его внутренней гармонии сталкивается с отражением противоречий
действительности, ее сложного многообразия. И чем шире, острее писатель
раскрывает эти противоречия, тем более становится недостижимой, необязательной
идеальная целостность, полная гармония структурных соотношений произведения.
Воплощение разнообразия, противоречий действительности делает само единство,
целостность художественных созданий динамичными, далекими от застывших канонов,
неизменных «вечных» норм».[9] Теперь,
как и в предыдущей главе, посвященной творчеству Виктора Гюго, хочу предложить
варианты жанровых определений «Записок» и рассмотреть отдельно каждый из них. Н.И.
Якушин в работе «Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве» говорит о проблеме
жанра «Записок» следующее: «Записки из Мертвого дома» нельзя рассматривать как
просто воспоминания или дневниковые записи. Это книга очерков, каждый из
которых логически завершен и воспринимается как нечто целое и законченное.
Единство глав-очерков определяет постепенное познание и осмысление автором всех
сторон жизни каторги и ее обитателей».[10] С
тем, что «Записки» не просто воспоминания или дневники мы уже согласились выше.
А как очерк (или книгу, состоящую из глав-очерков) «Записки из Мертвого дома»
характеризует не один Якушин. Т.С.
Карлова: «В описании Мертвого дома» автор до щепетильности реалистичен в жанре
(записки, очерки – почти документальная проза)».[11] Андрей
Битов: «Проза, с полным основанием причисляемая к очерку, документалистике и
публицистике…»[12] Варлам
Шаламов: «Мои рассказы – своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из
Мертвого дома», а с более авторским лицом…»[13] В.Н.
Захаров, в отличие от вышеназванных авторов, опровергает данную точку зрения:
«Это не «документальные» очерки и не очерковый цикл. Очерк предполагал
фактическую достоверность. Не то у Достоевского. Многочисленны случаи
отступления писателем от фактической во имя художественной достоверности».[14] Однако
нельзя и утверждать, что некоторые главы, относящиеся не к самому Горянчикову -
Достоевскому, а к окружающим его каторжанам, например «Новые знакомства.
Петров», «Акулькин муж» (глава, самим Достоевским названная «рассказом») и др.
не могут быть отнесены к жанру очерка. В то же время, если говорить о
«записках» как о термине (то есть как о жанре, связанном с размышлениями о
прожитом и подразумевающем выражение личного отношения автора или рассказчика к
описываемому[15]),
то «Записки из Мертвого дома» в это понятие включаются органически, (за
исключением вышеназванных вставных глав-рассказов, глав-очерков). Вообще
следует отметить, что в большинстве исследований превалируют характеристики с
отрицательной постановкой вопроса: «Записки» Достоевского - ни то, ни другое,
ни третье. В.Я.
Лакшин: «Записки из Мертвого дома» – это не очерки, не мемуары, не роман в
строгом смысле слова».[16] «Записки
из Мертвого дома» не есть роман – в них нет «романического» содержания, мало
вымысла, нет события, которое объединило бы героев, ослаблено значение фабулы
(каторга – состояние, бытие, а не событие). Их нельзя назвать мемуарами,
Достоевский придал своим воспоминаниям о каторге не автобиографический…смысл. И
самое существенное: он ввел вымышленного повествователя, образ которого
исключает внехудожественное прочтение произведения. Автобиографическая и
фактическая достоверность не входила в замысел Достоевского».[17] В.Н. Захаров называет
«Записки из Мертвого дома» «оригинальным жанром».[18] Так с
чем же мы сталкиваемся в данном случае? Ведь известно то, что сам Федор
Михайлович всегда точно знал, что он
собирается написать, для него жанровых метаний не существовало. В этом аспекте
актуально звучат слова Туниманова: «Интересно…предупреждение Достоевского – о
«бессвязности» повествования: оно давало большую свободу писателю, не желавшему
связывать себя какими-либо жанровыми канонами, последовательным развитием
сюжета».[19]
Иными словами, Туниманов говорит о том, что писатель заранее предупредил читателей:
что они встретят на страницах его
книги, а затем дал волю своему творческому гению. То же
самое отмечал еще и Л.Н. Толстой, который отнес «Записки из Мертвого дома» к
произведениям, содержание которых «хотел и мог выразить автор в той форме, в
которой оно выразилось».[20] Хочется
уточнить вот какую деталь: у Достоевского часты сближения жанровых и нежанровых
значений слов. В.Н. Захаров считает, что «нежанровые значения жанровых
дефиниций у Достоевского…имеют гораздо большее значение, чем это может показаться
на первый взгляд».[21] Цитирую
самого Федора Михайловича. Вот как во введении к «Запискам из Мертвого дома» он
описывает якобы найденные им бумаги Горянчикова: «Одна тетрадка, довольно
объемная… Это было описание, (здесь и
далее – курсив мой – Мусаева О.) хотя и бессвязное, десятилетней каторжной
жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью… Каторжные записки,
- «Сцены из Мертвого дома», как
называет он их сам где-то в своей рукописи… Некоторые особенные заметки о погибшем народе…»[22] И все это в пределах
одного абзаца! Трудно не задаться вопросом: а что же понимает под жанром сам
писатель? Ответ
– в «Дневнике писателя» за 1871 год. «Что такое в сущности жанр? – задумывается
Достоевский. И отвечает, - Жанр есть искусство изображения современной, текущей
действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел
собственными глазами» (21, 76). Как считает В.Н. Захаров, «жанр был для
Достоевского не абстрактным, а конкретным понятием: романом, повестью, поэмой,
рассказом».[23] Следовательно,
«записки» для Достоевского и есть жанр, жанровое определение его произведения?
Или это, опять же следуя за писателем, - жанр и сборник жанров одновременно? Дело
в том, что «записки» как жанр начинают бытовать не только в творчестве
Достоевского, но в русской литературе девятнадцатого века в целом. («Записки
сумасшедшего» (1835) Гоголя, «Записки охотника» (1852) Тургенева, «Записки
институтки» (1902) Л. Чарской и др.) Но именно для Достоевского «записки» были
жанром органически близким, родственным, поскольку давали широкий спектр
возможностей для раскрытия внутреннего мира человека. За «Записками из Мертвого
дома» последовали «Записки из подполья» (1864), в форме записок написан и роман
Ф.М. Достоевского «Подросток» (1875). Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что рассматриваемое в данной
дипломной работе произведение по жанру можно обозначить как «записки с
органически включенными в них главами-рассказами, главами-очерками». Теперь
хотелось бы обратиться к образу Александра Петровича Горянчикова, выведенного в
«Записках» как рассказчик – повествователь. Образ этот загадочен и
неоднозначен. Многие исследователи задавались вопросом: зачем Горянчиков был
нужен Достоевскому? Действительно – зачем? Налицо
дифференциация автора от героя в двух аспектах: характер, состав преступления и
срок заключения в каторгу. Известно, что Достоевский был осужден за
политические взгляды и провел в «Мертвом доме» четыре года. Горянчиков же
выведен, как убийца своей жены, и провел на каторжных работах не четыре, а
десять лет. И в то же время мысли, чувства, оценки, события жизни Александра
Петровича – это все сам Достоевский. В тексте «Записок» автор и повествователь
зачастую – одно лицо. По
мнению Г. Фридлендера, «о Горянчикове и его преступлении рассказано во
«Введении» к «Запискам»…с целью отвести возможные придирки цензуры». Именно
поэтому, «предпослав «Введение» тексту «Записок», Достоевский на дальнейших
страницах мало считается с ним».[24] Несколько
иная точка зрения у Захарова. Он считает, что писатель создает Горянчикова с
целью типизации своей острожной судьбы. (Об этом уже говорилось выше.)
Исследователь доказывает свое мнение, цитируя письмо Достоевского брату:
«Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь»
(П.2, 605). По-моему,
имеет место как первая причина, так и вторая. Горянчиков – это и вариант
уклонения от цензуры, и путь к типизации личности заключенного в каторге. Теперь
о составе преступления. Горянчиков – убийца, однако Захаров убедительно
доказывает, что повествователь в «Записках» сознает себя «не уголовным, а
политическим преступником – и потому, что свободен от мук совести за
приписанное преступление, и по многочисленным намекам. Зачем уголовному
преступнику из дворян свидание с женами декабристов, зачем убийцу жены
специально показывать ревизору?..»[25] Как пример Захаров также
приводит сцену, когда «Т-вский, польский революционер, предупреждает
Горянчикова, хотевшего принять участие в «претензии»: «Станут разыскивать
зачинщиков, и если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинение в
бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд» (4,
203)».[26] Очень
интересны и важны в жанровом аспекте пространственно – временные характеристики
«Записок из Мертвого дома». Как и
у Виктора Гюго в «Последнем дне приговоренного к смерти», пространство Мертвого
дома замкнуто, ограничено забором каторги. Недаром у читателя порой возникает
ощущение неподвижности бытия в «Записках». Как в июльский полдень перед грозой:
ни ветерка, ни облачка, ни звука. Но как грозовой шквал обрушиваются на
читателя ощущения от этой картины. О
«картинности» упоминает и Лакшин в работе «Биография книги»: «На первый взгляд
в сюжете «Записок» нет движения. Перед нами яркая, но как бы статичная картина».[27] Но это не недоработка
автора. Это его творческий замысел: нарисовать – словом! «Мне хотелось
представить весь наш острог и все, что я пережил в эти годы, в одной наглядной
и яркой картине», - пишет он (4, 220). Художественное
мастерство писателя подчеркивает и Т.С. Карлова. «Замкнутое пространство, как
бы перестающее быть пространством, то есть чем-то широким и просторным, - такое
изображение было удивительно достоверным и художественно совершенным»[28], - считает она. А
движение совершается «в виде перехода из одного замкнутого круга в другой»,[29] (сравни: круги «Ада»
Данте). Лакшин
сравнивал свободу формы в рассказе Горянчикова с клубком и нитью, объясняя
«повторы, возвращения вспять и заглядывания вперед» тем, что герой, повествуя о
годах заключения, «выговаривает попросту, что ему припомнилось, без видимой
строгости плана»[30]. Однако
это воспоминание – повествование строго ограничено и упорядочено в
композиционной форме. Композиционная завершенность «Записок» выражена в
соотнесенности начальных и конечных глав книги. «Автор постепенно знакомит
читателя со всеми главными сторонами и характерными моментами каторжной жизни.
«Записки» дают целостную картину всей жизни заключенного – от поступления в
острог и до выхода на свободу».[31] Очень
ярко и точно сравнила с цепью композицию книги Т.С. Карлова: «Рисунок
композиции «Записок из Мертвого дома» подобен каторжной цепи. Звенья ее
неоднородны».[32]
Действительно, неравнозначны по значению главы-очерки, главы-новеллы «Записок»,
но все они скованы между собой мрачным образом Мертвого дома. Цепь
небеспрерывна, она размыкается на вход и выход. Выходов несколько. Для
Достоевского – Горянчикова это -
истечение срока заключения и свобода. Для многих выходом с каторги была
смерть. «В
целом же логика композиции «Записок из Мертвого дома», - считает Захаров, - это
crescendo идеи».[33] Именно «крещендо идеи»
обусловливает композицию, заставляет книгу быть картиной, - жутким отображением
Мертвого дома. Говоря
о статичности, замкнутости пространства, мы можем то же сказать и о времени. С
одной стороны, оно линейно: заключение – срок – свобода. Эта линейность
обусловлена композиционно. С другой – повторяемость острожных будней, множества
впечатлений и ощущений, ежедневных и одинаковых для каждого заключенного,
лишает время «своей главной качественной характеристики – движения от прошлого
к будущему». Время «теряет необратимость течения и, подчиняясь замкнутому
пространству, движется по кругу».[34] «Происходит
укрупнение масштаба изображения каторги: прибытие, первый день, первый месяц,
первый год, последний год, последний день срока. Таковы типичные вехи острожной
судьбы каждого арестанта»[35], - пишет В.Н. Захаров,
обобщая и типизируя судьбу Достоевского - Горянчикова. В
завершении разговора о времени в «Записках» приведу необычайно верное определение
Т.С. Карловой: «Время здесь дано и как настоящее, и как будущее, уже ставшее
прошедшим. Оно являет собой одновременность разновременного».[36] Свою
книгу Достоевский назвал «Записками из Мертвого дома» не случайно. Название это
пришло к нему, возможно, еще в годы заключения. Как пишет Николай Наседкин, «в
письме к младшему брату Андрею из Семипалатинска (от 6 ноября 1854 года)
Достоевский дает…жесткую и мрачную формулировку-оценку своему каторжному
существованию: «А те четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен
живой и закрыт в гробу…».[37] Всеми
исследователями однозначно подчеркивается метафоризация названия «Записок». Как
считает Т.С. Карлова, «метафора «Мертвый дом» оказывается не просто оценочной
формулой, она определяет структуру «Записок» в целом».[38] «Мертвый дом» – это дом
мертвых заживо. Без свободы всякая жизнь мертва; вместилище людей, лишенных
свободы, может быть только мертвым домом. «Свобода или хоть какая-то мечта о
свободе» выше всего для арестанта. Она становится принципом в раскрытии
характеров, выступает как стимул сюжетного движения; на ней держатся многие
жанровые сцены».[39] Интересное
замечание делает В.Н. Захаров: «Подобная метафоризация содержания уже была в
русской литературе, - пишет он, - в поэме Гоголя «Мертвые души». И у Гоголя, и
у Достоевского ключевые образы символизируют «омертвление» людей социальным
укладом жизни самодержавно-чиновничьего государства. И «записки» Горянчикова –
категорическое отрицание этого уклада, порыв к «свободе, новой жизни,
воскресению из мертвых» (4, 232)».[40] «Записки из
Мертвого дома открыли путь целой литературе о каторге, на каторжную тему. И
здесь Достоевский, бесспорно, был первым. В книге «Творчество Ф.М. Достоевского
и русская проза 20 века» Юрий Сохряков пишет: «В наши дни становится очевидным,
что так называемая «лагерная» проза имеет для нашего общественного и
художественного сознания не меньшее значение, чем проза деревенская или
военная. Возникновение этой прозы – явление уникальное в мировой литературе. Естественно,
что в своих творческих исканиях представители «лагерной» прозы не могли пройти
мимо художественно-философского опыта Достоевского. Нередко они приходят к тем
же выводам, к каким приходил их великий предшественник, утверждавший, что зло
таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты. В
наши дни ни одно серьезное повествование о лагерной жизни, о трагических
судьбах заключенных людей не может успешно осуществиться без учета творческого
опыта автора «Записок из Мертвого дома».[41] И
поколение писателей, открывшее в 20 веке «лагерную» прозу, наследовало
Достоевскому во многом, вплоть до судьбы, – они оказывались в заключении по
политическим мотивам и вынуждены были сосуществовать с ворами, убийцами,
насильниками, считавшими себя хозяевами жизни. В
данной дипломной работе, обращаясь к творчеству Достоевского, я рассматриваю
две его работы, «Записки из Мертвого дома» и рассказ «Кроткая», поскольку
считаю, что именно они в наибольшей степени несут на себе отпечаток влияния
«Последнего дня приговоренного» Виктора Гюго. И здесь опять встает вопрос об
оригинальности жанровых разработок русского писателя, который определяет
«Кроткую» как «фантастический рассказ». Сюжет
рассказа «Кроткая» основан на реальных событиях. Толчком к его написанию
«послужило чтение Достоевским газетных сообщений об участившихся в 70-х гг. 19
в. случаях самоубийств среди молодежи. Рядом с типами «гордых» самоубийц из
аристократических семей, затронутых атеистическими и «нигилистическими» идеями,
писателя поразил образ совсем иной, «кроткой» самоубийцы – швеи, Марьи
Борисовой, выбросившейся из окна (о чем сообщили Петербургские газеты 2 октября 1876 г.) с образом в руках»
(24, 387).[42]
Сам
рассказ написан в русле реализма, но фантастична, по словам Достоевского, его
форма. «Я озаглавил его «фантастическим», - уточняет Федор Михайлович в
Предисловии от автора, - тогда как сам считаю его в высшей степени реальным. Но
фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа».[43] И тут
же, в Предисловии, под заголовком «Фантастический рассказ», слова автора:
«Я…занят был этой повестью большую
часть месяца. Теперь о самом рассказе…
Дело в том, что это не рассказ и не записки».[44] Можно задуматься: а не
противоречит ли автор самому себе? Но зная, что у Достоевского часты сближения
жанровых и нежанровых понятий слов, можно утверждать: автор сказал именно то,
что сказать хотел. Да, жанр произведения – рассказ. Но рассказ, написанный в форме записок. В то же время по
содержанию рассказ «Кроткая» близко примыкает к жанру исповеди. Герой именно исповедуется
перед воображаемым слушателем. Литературная энциклопедия терминов и понятий
раскрывает термин «исповедь» следующим образом: «Исповедь в литературе –
произведение, в котором повествование ведется от первого лица, причем
рассказчик (сам автор или его герой) впускает читателя в самые сокровенные
глубины собственной духовной жизни, стремясь понять «конечные истины» о себе,
своем поколении».[45][46] В словарной статье
упоминается именно Ф.М. Достоевский, как писатель, произведения которого
наиболее приближены к исповеди. В «Кроткой» присутствует также присущий
исповеди «мотив раскаяния». Герой
у гроба жены анализирует и переосмысливает жизнь. Он ходит по комнатам и думает, думает. Он говорит вслух
не кому-либо, - себе! Несчастный муж, следственно, не может вести запись мыслей
и ощущений. И точно так же он, отверженный всеми ростовщик, не имеет
возможности рассказать кому-то то, что он вспоминает и ощущает мучительно. И
поэтому-то Достоевский и говорит, что
это «не рассказ» по форме. Это что-то
новое, необычное, «фантастическое». Однако
Федор Михайлович не считает себя новатором, первооткрывателем формы. Виктору
Гюго он отдает пальму первенства. «Подобное уже не раз допускалось в искусстве,
- замечает он в Предисловии к рассказу, - Виктор Гюго, например, в своем
шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой
же прием, и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую
неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет
право) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и
буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало
бы и самого произведения, - самого реальнейшего и самого правдивейшего
произведения из всех им написанных».[47] Итак,
главной задачей автора, как говорится в Примечаниях к «Кроткой», было найти
верный «тон» и единственно возможную повествовательную форму, способную
передать трагизм «факта» одновременно «простого» и «фантастического» (24, 387). Речь
героя, говорящего сам с собой, передана с необычайной точностью. «Я все хожу и хочу себе уяснить,
это. Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и все не соберу в точку мыслей.
Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу… Это вот как было. Я просто расскажу все
по порядку».[48] Проследим
жанровые характеристики рассказа, данные В.Н. Захаровым. Согласно его точке
зрения, рассказ предполагает одного главного героя, «когда же их несколько
(обычно не более двух-трех) – один из них главный: это сам рассказчик или тот,
о ком рассказ».[49]
Сущностью содержания для русского рассказа является «случай» или характер.
Рассказ предполагает «отсутствие серьезной пространственно-временной разработки
содержания».[50] «Кроткая»
соответствует этим параметрам, несмотря на «фантастичность». Один главный
герой, он же – рассказчик, - муж самоубийцы. В содержании переплетаются
«случай» и «характер» (даже два характера: ее, «кроткой», и его, ростовщика).
Пространственно-временные характеристики составляются воедино только
посредством памяти рассказчика. Из
всего вышесказанного можно сделать вывод, что «Кроткая» действительно рассказ
по жанру, но рассказ, написанный в форме записок, и, с точки зрения содержания,
мироощущения, близко примыкающий к исповеди. [1] Фридлендер Г. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый…(вступ. ст.)/ В кн.: Ф.М. Достоевский. Записки из Мертвого дома. Рассказы. - М., 1983. - С. 3. [2] Могилянский А.П. К истории первой публикации «Записок из Мертвого дома»// Русская литература. – 1969 - №3. – С. 179. [3] Битов А. Новый Робинзон.// Знамя. – 1987. – кн. 12. – С. 221. [4] Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома».// Достоевский. Материалы и исследования (сборник. Гл. ред. В.Г. Базанов.) – Л.: Наука, 1974. - С. 135. [5] Могилянский А.П. К истории первой публикации «Записок из Мертвого дома». - С. 179. [6] Битов А. Новый Робинзон. - С. 223. [7] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 179. [8] Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 1998. - С. 59. [9] Храпченко М.Б. Размышления о системном анализе литературы. - С. 371. [10] Якушин Н.И. Достоевский в жизни и творчестве. - С. 59. [11] Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома». - С. 135. [12] Битов. А. Новый Робинзон. - С. 223. [13] Шаламов В. «Новая проза». Из черновых записей 70-х годов // Новый мир. – 1989. - №2. – С. 60. [14] Захаров В.Н. система жанров Достоевского. - С. 175. [15] Литературная энциклопедия терминов и понятий./ Гл. сост. и ред. А.Н. Николюкин. - С. 276. [16] Лакшин В.Я. Биография книги. - М., 1979. - С. 359. [17] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 175. [18] Там же. - С. 174. [19] Туниманов. Творчество Достоевского. - С. 73. [20] Толстой Л.Н. Несколько слов по поводу книги «Война и мир». /Л. Н. Толстой // Полн. собр. соч., М. , 1955. – Т. 16. – С. 7. [21] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 25. [22] Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома. Рассказы. - С. 26. [23] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 23. [24] Фридлендер Г. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый… - С. 7. [25] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 178. [26] Там же. - С. 178. [27] Лакшин В.Я. Биография книги. - С. 360. [28] Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома». - С. 142. [29] Там же. - С. 142. [30] Лакшин В.Я. Биография книги. - С. 359. [31] Фридлендер Г. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый… - С. 10. [32] Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома». - С. 144. [33] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 183 [34] Карлова Т.С. Указ. соч. - С. 144. [35] Захаров В.Н. Система жанров… - С. 177. [36] Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома». - С. 143. [37] Наседкин Н. Самоубийство Достоевского. Enternet. Sam_dost. - С. 8.10. [38] Карлова Т.С. О структурном значении образа… - С. 136. [39] Карлова Т. С. Указ. соч. С. - 136-137. [40] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 185. [41] Сохряков Ю. От «Мертвого дома» до ГУЛАГА (нравственные уроки лагерной прозы)./ Ю. Сохряков// Творчество Ф.М. Достоевского и русская проза 20 века (70-80-е годы). - М.: ИМЛИ РАН, 2002. - С. 114. [42] Достоевский Ф.М. Кроткая. Примечания./ Ф.М. Достоевский// Полн. собр. соч. – Т. 24. – С. 387. [43] Достоевский Ф.М. Кроткая. - С. 344. [44] Там же. - С. 344. [46] Литературная энциклопедия терминов и понятий./ Гл. сост. и ред. А.Н. Николюкин. - С. 320. [47] Достоевский Ф.М. Кроткая. - С. 345. [48] Достоевский Ф.М. Кроткая. - С. 345. [49] Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. - С. 61 [50] Там же. - С. 61. |
|